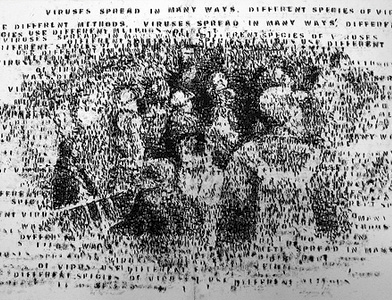
Вообще Левкин любит этот образ: вирусы переходят у него из текста в текст, инфицируя если не мозг читателя, то саму ткань левкинской прозы, и ткань меняет свойства.
Высокое и низкое, второстепенное и важное, актуальное и забытое сближаются, перемешиваются, превращаясь в однородную массу.
При этом смысл, как правило, выпадает в осадок.
Левкин как вирус
История, классическая литература и весь окружающий мир, оказывается, состоят из одних и тех же кирпичиков — слов, звуков и букв.
Эти кирпичики можно перемешивать, переносить со стройки на стройку, заготовки для готического храма использовать на строительстве панельной пятиэтажки, а известняковые стены украшать плитами из пенопласта.
ЛЕВКИН ПЛЮС. Именно тексты, а не повести и рассказы и уж тем более не романы, если таковые жанровые маркеры прицепляют к Левкину авторы книжных аннотаций.
Читать дальшеПусть Раскольников вместо Мармеладова встретит Менделеева («Достоевский как русская народная сказка»), Грушницкого переименуют в Клубницкого («Княжна Мери»), латышские стрелки окажутся андроидами («Чапаев: место рождения — Рига»), а Чапаев предстанет то андроидом, питомцем Гурджиева, то обитателем аквариума, обернувшимся раком по 245 рублей за килограмм («Бомж и окрестности бомжа»).
Пелевин некогда использовал образ Чапаева для пропаганды своего дзен-буддизма, превратив мифологического героя в гуру. Левкину гуру не нужен.
Его Чапаев в папахе и бурке стучит сабелькой по стеклянной стене аквариума. Смысл убит, по идеалам давно отслужили панихиду, осталось забавляться игрой воображения.
Неодушевленные предметы здесь важнее людей. Жертвы «Норд-Оста» лишь ненадолго привлекают внимание автора, он предпочитает описывать пластиковые бутылки с пивом и газировкой, забытые в позаброшенном ларьке («Телецентр»). Створаживается власть, створаживается мозг, створаживается молочнокислый продукт в упаковке. Гниющий сырок интересней человеческой судьбы, значительнее «русской идеи» и самой России, «как бы Родины». Кстати, к вопросу о волшебном «как бы». Левкин ни на чем не настаивает, ничего не утверждает и, упаси бог, не проповедует. Левкин работает совсем в другой тональности: «…хоть и ерунда, да все-таки как-то что-то, хоть, конечно, и чушь собачья, но все-таки, не бог весть что, но хоть как-то так, потихонечку, так что, в общем, как-нибудь, ладно, будем посмотреть» («Очерк»). Это не просто веселая игра большого мастера, но своеобразная позиция: «типа» и «как бы», которыми именно Левкин, если верить Вячеславу Курицыну, заразил разговорную речь целых поколений, превращают любой материал в черепки. Одна из глав «Русской разборки» даже называется «Типа мысли об обретенной Родине». Нет ценностей, идеалов, идей, есть «как бы ценности» и «как бы идеалы». Нет разума и морали, но есть «типа разум» и «типа мораль». Эти игры вовсе не безобидны. Лермонтов и Достоевский переживут любые деконструкции, от них не убавится. А вот что сказать о тоннах кукол Барби «в зеленых набедренных повязках с надписью «аллах акбар» (так в оригинале, имя Бога Левкин пишет со строчной буквы), а также тоннах соленых огурцов и лавровых листьев, сброшенных на головы чеченцев, оборонявших Грозный? («Тут, где плющит и колбасит»).
Левкин как математик
Впрочем, Россия — страна отсталая. Здесь для вирусов всё еще холодно, а потому вирулентность левкинской прозы невелика. Два тома изысканных текстов (неполное собрание сочинений Андрея Левкина) выпущены скромным трехтысячным тиражом. Доза, право же, гомеопатическая.
Математика и теоретическая физика подарили современной литературе несколько первоклассных писателей. Может быть, даже выдающихся. Владимир Маканин, Александр Иличевский, Андрей Левкин. Сознание математика, образ мыслей ученого определяют их творчество. Но эти люди ставят перед собой разные цели, а потому пути писателей-математиков расходятся всё дальше.
Про прозу Левкина писать сложно. Но мы попробовали. Обобщив плюсы и минусы его стиля. А перед этим поговорили с самим Левкиным. Это не журналист плохо расшифровывал его речь, это Андрей считает необходимым так выражаться.
Читать дальшеАлександра Иличевского интересуют фундаментальные законы бытия — и он познает их, используя интуицию не только художника, но и ученого. Владимира Маканина больше занимает современное общество, и он по мере сил пытается создавать математические модели социальных процессов. Это, так сказать, прикладная математика. А есть математика «чистая», отрасль фундаментальной науки. Она занимается вещами, не имеющими (в обозримой перспективе) практического применения. «Топология! Стратосфера человеческой мысли! В двадцать четвертом столетии она, может быть, и понадобится кому-нибудь, а пока…» (Александр Солженицын. В круге первом). Позволю себе не согласиться с классиком. Без фундаментальных исследований нет технического прогресса. Математики, занимаясь самой отвлеченной из наук, готовят стройплощадку для представителей других, не столь фундаментальных дисциплин. Вот к таким математикам и относится Андрей Левкин, самый последовательный сторонник «чистого искусства». Левкин пишет тексты, не романы, не повести, не рассказы, но именно тексты.
В наши дни мейнстрим «серьезной» прозы захвачен не слишком искусными, но зато внятными «новыми реалистами». Времена левкинского «Родника», где печатались Петр Вайль и Александр Генис, Виталий Кальпиди и Лев Рубинштейн, давно прошли. Но русский постмодернизм хоронить рано, отрицать влияние метаметафоризма и даже концептуализма на современную литературу нелепо. И все-таки творчество Андрея Левкина вписывается в контекст не столько русской (вечно догоняющей), сколько западной цивилизации. Девальвация христианских и гуманистических ценностей началась еще в XIX веке (вспомним хотя бы Бодлера), а после Первой мировой сюрреалисты и дадаисты — с той самой спокойной, интеллигентной, воистину левкинской интонацией — прочитали западному миру приговор. В 60-е постмодернизм пришел на давно вспаханную почву. Пали последние идеалы, исчезла грань между добродетелью и грехом, кощунством и нормой. Только не думайте, будто здесь есть хоть что-то новое. Первым постмодернистским произведением была «Война мышей и лягушек», замечательная пародия на «Илиаду», написанная уже в эпоху упадка античной культуры, спустя тысячу лет после Гомера, где Ахиллеса заменил мышонок Блюдолиз, а Менелая — Хлебогрыз. У нас время «Илиады» еще не закончилось, авторы наших «Мышей и лягушек» пришли слишком рано. Их время — будущее, будем надеяться, далекое.
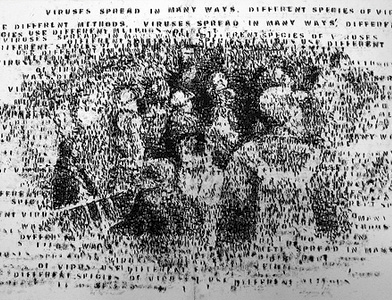 Вообще Левкин любит этот образ: вирусы переходят у него из текста в текст, инфицируя если не мозг читателя, то саму ткань левкинской прозы, и ткань меняет свойства.
Вообще Левкин любит этот образ: вирусы переходят у него из текста в текст, инфицируя если не мозг читателя, то саму ткань левкинской прозы, и ткань меняет свойства.