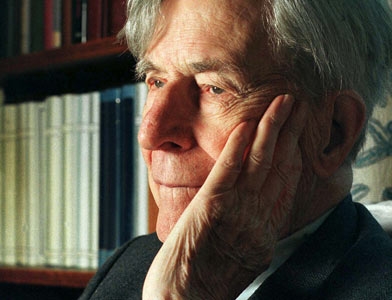
Несмотря на то что Гэлбрейт почему-то не нравился ФБР, он прожил счастливую жизнь и умер в возрасте 97 лет. Теперь, в дни кризиса, спустя два года после кончины, он снова начинает нравиться многим на Западе. Даже больше Маркса. «Не читайте Милтона Фридмана, покупайте Джона Гэлбрейта», — пишет блогер «Нью-Йорк Таймс».
Самая знаменитая книга ученого, начинавшего карьеру при Рузвельте, во времена «нового курса» и торжества вмешательства государства в экономику, — «Новое индустриальное общество» — стала манифестом государственного капитализма. Но могла быть квалифицирована и как манифест государственного социализма. Потому что Гэлбрейта интересовала не идеология, а власть техноструктуры — больших технократизированных корпораций, по сути дела, слитых с государством или замещающих его.
Возможно, именно поэтому бестселлер Гэлбрейта был стремительно переведен на русский язык и издан в СССР в 1969 году, спустя всего два года после выхода первого западного издания. В «Новом индустриальном обществе» (которое в оригинале на самом деле «государство») автор похвалил советскую управленческую и экономическую школу. И составители ветвящихся межотраслевых балансов, а также их начальники могли только возрадоваться. В политике в то время начались заморозки, сворачивалась косыгинская реформа, но в то же время на марше была самая успешная советская пятилетка — восьмая, и рассуждения американского гуру не казались крамольными. Разве что чуточку наивными — в той части, где он настаивал на возможности конвергенции двух систем. В книге Гэлбрейта счастливо сходились два мира, два Шапиро. Один Шапиро-технократ из какой-нибудь полувоенной американской организации и другой Шапиро-технократ из НИИ Госплана Союза.
Правда, заметим попутно, Гэлбрейту хватало иронии на то, чтобы обнаруживать конвергенцию двух систем и в иных нюансах их устройства: «При капитализме человек эксплуатирует человека. При коммунизме — всё наоборот».
Однако переместимся на четыре десятилетия вперед. «Слишком большие, чтобы рухнуть» — это о крупных компаниях, поддерживаемых государством, сказал не Владимир Путин, а председатель Федерального резерва Бен Бернанке. Пытаясь избежать мультипликативного эффекта при падении крупных структур, правительства прежде всего спасают колоссов на глиняных ногах. К тому же эти самые гигантские истуканы — «свои». Об этом и писал 40 лет назад Гэлбрейт. Прославляя мощь техноструктуры, он говорил о ней с предельной трезвостью: «Индустриальная система проталкивает свои требования и интересы с ловкостью и настойчивостью. Поскольку этим требованиям придается видимость (курсив мой. — А.К.) увязки с задачами общества, действия правительственного аппарата по обслуживанию нужд индустриальной системы во многом выглядят как действия, направленные на решение общественных задач».
Гэлбрейт пророчил тотальное наступление структур, которые мы в сегодняшней России называем «естественными монополиями», «госкорпорациями», «олигархическими империями». Все они действительно связаны с государством и действительно слишком большие, чтобы быть обанкроченными (too big to fail). Гэлбрейт полагал, что корпорации не слушаются рынка, они подчиняют его себе. Он писал о власти групповых решений внутри техноструктуры, когда мнение первого лица не является решающим, а всё определяется той частью работников, которые необязательно администрируют, но обладают специальными знаниями и информацией (эта утопия как раз и могла сильно потрафить тем, кто считал полезной публикацию бестселлера в Советском Союзе). И Гэлбрейту в принципе нравилась такая система. Но он, как добросовестный исследователь, всякий раз обнаруживал оборотную сторону собственных прогнозов и надежд. Поскреби утопию — и ты непременно обнаружишь антиутопию: «Опасность, угрожающая свободе, заключается в подчинении общественного мнения нуждам индустриальной системы. Государство и индустриальная система действуют здесь заодно».
Кажется, Гэлбрейт не знал, что делать с собственным прогнозом. Эта его некоторая озадаченность приводила к поразительно проницательным выводам. Например, в России и сегодня продолжают измерять успех процентными пунктами ВВП, а Гэлбрейт заканчивал рукопись в 1966-м и уже тогда отмечал: «Прогресс, о котором идет речь в настоящее время, будет гораздо труднее измерить, чем тот прогресс, который связывается с процентом прироста валового национального продукта или с уровнем безработицы… Определение понятия преуспевания общества должно стать предметом дискуссий».
Главные предсказания провозвестника новой эры оказались не слишком точными. Модель госкапитализма обанкротилась, и экономику вытаскивали из затяжной стагфляции по неолиберальным рецептам. Не случилось и конвергенции двух систем, в которых, не подозревая о существовании друг друга, мирно трудились два разных Шапиро. Но мировой кризис и в самом деле заставляет по-новому оценить идеи Гэлбрейта. Может быть, глобализация и есть та самая конвергенция? А развал Вашингтонского консенсуса означает возвращение мира в лоно техноструктур, государства, планирования?
Как бы то ни было, Гэлбрейт сам испугался описанного им в деталях нового Левиафана — всепоглощающей техноструктуры. Много пылких, можно сказать, по-каспаровски пылких страниц экономический гуру посвятил страте, которая могла бы помешать монополии «индустриальной системы на формулирование общественных задач». В рядах оппозиции Гэлбрейт видел интеллигенцию, преподавателей, ученых. Нечто подобное и произошло, когда во второй половине 1980-х в СССР этот общественный слой устремился из тесных кухонь на просторные площади, а затем в залы парламентов. С одной целью — смести советскую техноструктуру, накрепко связанную с государством и подавившую рынок. Теория мирного сосуществования и взаимного уравновешивания техноструктуры и интеллигенции провалилась. Боливар истории не выдержал двоих.
Значит, Гэлбрейт — это не конец. Не свет в конце тоннеля. И не ужасный конец после ужаса без конца. История развивается по спирали. И кто знает, не напишет ли спустя несколько лет блогер «Нью-Йорк Таймс» (если к тому времени газета не обанкротится — или она too big to fail?): «Не читайте Гэлбрейта, покупайте Фридмана».
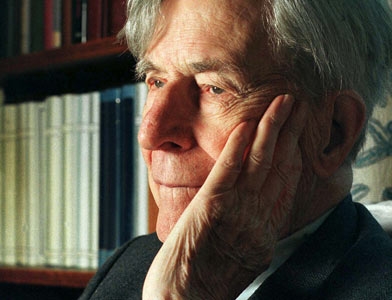 Несмотря на то что Гэлбрейт почему-то не нравился ФБР, он прожил счастливую жизнь и умер в возрасте 97 лет. Теперь, в дни кризиса, спустя два года после кончины, он снова начинает нравиться многим на Западе. Даже больше Маркса. «Не читайте Милтона Фридмана, покупайте Джона Гэлбрейта», — пишет блогер «Нью-Йорк Таймс».
Несмотря на то что Гэлбрейт почему-то не нравился ФБР, он прожил счастливую жизнь и умер в возрасте 97 лет. Теперь, в дни кризиса, спустя два года после кончины, он снова начинает нравиться многим на Западе. Даже больше Маркса. «Не читайте Милтона Фридмана, покупайте Джона Гэлбрейта», — пишет блогер «Нью-Йорк Таймс».